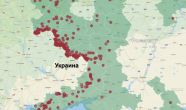Точенов провел ряд рабочих встреч в Иркутской области в преддверии выборов
11 сентября, 20:09
Переход от гуманистической гордости к силовой
11 сентября, 20:02
Не на бумаге и не для «галочки»
11 сентября, 18:44
В США убит автор «агитационной мантры» для консерваторов
11 сентября, 17:01
Исчезающих учителей заменит искусственный интеллект?
11 сентября, 16:23
В законотворческом процессе жизнь богаче процедур
11 сентября, 15:53
Гордиев узел индийско-китайских отношений
11 сентября, 15:20
Один голос в пятницу лучше трех обещаний на воскресенье
11 сентября, 14:41
11 сентября 2025, 17:58
Ждут ли на фронте Десант психологов?
В сентябре ожидается завершение работы по созданию федерального пула психологов для обеспечения бойцов СВО и их семей квалифицированной психотерапевтической помощью, включая дистанционный формат. Еще в июле этого года с такой инициативой выступила вице-спикер ГД Ирина Яровая, а в Минздраве РФ поддержали это предложение, обозначив реализацию на начало осени.
В данный момент в ведомстве заканчивают разработку программы комплексной медико-психологической реабилитации. Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко подтвердил, что уже утверждены методики психологической поддержки участников спецоперации и их семей, инструкции по раннему выявлению заболеваний.
Как к этой инициативе относятся на фронте?
Штатный психолог 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии капитан Евгений Кужин высказался "категорически за" инициативу вице-спикера Госдумы. Но с одной оговоркой - чтобы по итогу вышло не для "галочки" и отчета, а для реальной помощи бойцам и их близким. Евгений Владимирович, прошедший долгий и тернистый путь со своей бригадой с самого начало СВО уверен, в том, что руководители и специалисты в этом пуле должны быть не гражданские, а военные, которые на себе испытали боевую атмосферу и понимали, как у бойцов происходит адаптация - психологическая и физическая. Руководить этим направлением должны боевые офицеры, допустим, прошедшие программу "Время героев", а не дамы, которые видели войну только через экран телевизора.
- Что касается работы специалиста, то психолог должен не приезжать время от времени "из-за ленточки", а находиться при личном составе постоянно, - отмечает Кужин. - Тогда и доверие к нему среди бойцов увеличивается кратно, а доверие - основное качество в нашем деле. Кроме того, очень часто психологическую помощь надо оказывать здесь и сейчас, а не через день, неделю или месяц, когда приедет в командировку специалист.
Евгений Кужин очень надеется, что практика отчетов, которые "клепаются" в департаменте психологической помощи, канут в Лету в связи с новой инициативой.
- В данный момент я еду на полигон, на один тяжелый случай, - делится военный психолог. - Отказник, острый случай психоза. Боец из молодого пополнения говорит: что хотите делайте со мной, хоть застрелите, я устал. Этот новобранец, прибывший в войска неделю назад, раньше видел войну только в кино и Telegram-каналах, где красивые военные дают интервью, в которых под бравурные марши они рассказывают, как они "крошат укропов". А прибыв сюда и столкнувшись с тяготами и лишениями службы, такими как житье-бытье в блиндаже и изнуряющие тренировки на полигоне, даже еще не побывав в реальном бою на передовой, в его голове произошел разрыв шаблона: ожидание и реальность. Вот вы видели, как я работаю с новобранцами. Встречал я и эту группу, знаю их всех и данного бойца в том числе. И это огромный плюс. Я сейчас приеду, улыбнусь ему, и он мне, как старому знакомому все расскажет. Это и станет началом доверительной беседы, в конце который мы размотаем тот сложный психологический клубок, который находится у него в голове.
На недостаточную профессиональную подготовку командированных в войска психологов и необходимость боевого опыта указал и другой мой собеседник - военный священник Максим Серпицкий.
- Сталкивался я однажды с полковым психологом, который замучил бойцов анкетами, - вспоминает батюшка. - А при обстреле он впал в панику, поэтому я ему запретил даже выходить из машины, чтобы не деморализовал парней. В отдельных случаях психологи нужны, но для начала их надо запустить в боевую работу. Вот когда они себя проявят, тогда бойцы им поверят, и они смогут работать результативно. А пока большинство из них профессионально непригодны. Уж лучше бы наши депутаты военное духовенство развивали. Толку было бы больше.
Военный хирург и начмед 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Сулак так же, как и Евгений Кужин двумя руками за создание федерального пула психологов, считая работу своих коллег крайне необходимой на передовой. Вместе с тем ему, на основании богатого военного опыта, захотелось вставить свои "пять копеек".
- Мне доводилось наблюдать за приезжающими в войска психологами, - вспоминает Сулак. - Как они работают с бойцами, переживающими острый психоэмоциональный психоз. Они дают общие рекомендации. И уезжают, оставив этого бойца на попечение замполита, у которого и без того забот полон рот. А дальше - хоть трава не расти. Допустим, с таким бойцом потом случается беда - кто виноват? Может психолог? Нет - командир. Поэтому психологам надо дать больше прав на принятие решения и, следовательно, они должны нести ответственность за пациента. Вот я как военврач принимаю решение об эвакуации раненого с поля боя, понимая, что ему грозит смертельная опасность. Точно такое же решение в особых острых случаях должен принимать психолог или психотерапевт.
Начмед 810-й уверен в том, что кроме должности замполита в батальонах пора вводить должность заместителя командира по психологической работе. Такой работы - выше крыши. И это решение не то что назрело - перезрело. И это понятно: на войне люди постоянно ходят как по лезвию ножа и нервы их натянуты как струны.
Вместе с тем не все в войсках однозначно поддерживают инициативу Яровой и даже не все считают, что психологи здесь вообще необходимы.
Мой друг, офицер военной разведки армейского спецназа с позывным Шторм говорит, что с трудом представляет, чем ему здесь, на фронте, может помочь психолог или психотерапевт, который прошел какие-то там часы обучения. Точно так же и ветеранам СВО, которые возвратились на гражданку необходима совсем другая помощь. Он уверен в том, что им нужны не психотерапевты и психологи, а социализация в обществе, чтобы они понимали, что вокруг них - свои.
- Именно за этих "своих" они воевали, ежедневно рискуя жизнью, - говорит Шторм. - А для этого не психологов надо обучать, а менять систему ценностей и воспитания внутри страны. Чтобы не получилось так, что вернулся боец на Родину, а вокруг одни гламурные мальчики и меркантильные девочки. Социализация - только она способна помочь бойцам и их семьям. А если по итогу мы останемся одни и будем слышать высказывания типа "Мы вас туда не посылали", то ни один психолог или психотерапевт нам не поможет.
Со Штормом трудно не согласиться. Ну а пока до окончания СВО далеко и пул психологов намерен работать в том числе в войсках на передовой. А вот здесь каждый ведь судит со своей колокольни. Человеку с устойчивой психикой психотерапевт не нужен, так же, как и человеку со здоровыми зубами - стоматолог, шутит Евгений Кужин.
Между тем
Психолого-терапевтическую помощь получили 83 тысячи участников СВО и членов их семей. 34% из них прошли профилактический осмотр, диагностику и профилактику стрессовых расстройств, у 30% обнаружены стрессовые и невротические расстройства, которые лечатся амбулаторно, а у 27% - серьезные психические нарушения, требующие длительного наблюдения.
Как адаптироваться к мирной жизни
Евгений Кужин, психолог 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота:
- В первую очередь вчерашнему бойцу нужно перестать думать о войне и исключить из своей жизни алкоголь, громкие звуки, шум, нервотрепку. Уехать с близкими людьми, желательно с семьей, на природу в деревню. Взять с собой любимые с детства книжки. И наслаждаться тихой безмятежной жизнью на свежем воздухе с физическим трудом какое-то время, пока психика не стабилизируется.
В своей практике я очень часто использую такое понятие, как психологическое программирование. В ходе беседы с бойцами я говорю об их будущем после войны. Куда они приедут, с кем встретятся, кого обнимут, как пройдутся по родному городу, как люди будут ими любоваться. Эти рекомендации создают у них образ будущего, чтобы они мечтали перед сном и представляли, как все это произойдет. Оттиск этого образа в подсознании будет потом через интуицию создавать у человека новую реальность. Я этот психологический прием проверил на себе, хоть и не умышленно.
Когда наша бригада выходила эшелоном с киевского направления, я созвонился со своим раненым товарищем, который мне сообщил: "Операцию сделали, выплатили три миллиона". А мы в то время даже не знали, что за ранение какие-то деньги положены. И тогда я допустил у себя в голове такую мысль: если меня ранят, то я получу три миллиона и потрачу их на ипотеку. В итоге я оказался именно в то время и в том месте, где не должен был находиться, где и попал под обстрел, последствием чего стало тяжелое ранение и девять операций. И потом я действительно потратил эти три миллиона на то, на что хотел. Теперь я всегда рекомендую ребятам следить за своими мечтами, потому что они сбываются. Сразу представляйте себе образ светлого будущего: победу и возвращение домой целыми и невредимыми. И это работает! Печать
В данный момент в ведомстве заканчивают разработку программы комплексной медико-психологической реабилитации. Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко подтвердил, что уже утверждены методики психологической поддержки участников спецоперации и их семей, инструкции по раннему выявлению заболеваний.
Как к этой инициативе относятся на фронте?
Штатный психолог 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии капитан Евгений Кужин высказался "категорически за" инициативу вице-спикера Госдумы. Но с одной оговоркой - чтобы по итогу вышло не для "галочки" и отчета, а для реальной помощи бойцам и их близким. Евгений Владимирович, прошедший долгий и тернистый путь со своей бригадой с самого начало СВО уверен, в том, что руководители и специалисты в этом пуле должны быть не гражданские, а военные, которые на себе испытали боевую атмосферу и понимали, как у бойцов происходит адаптация - психологическая и физическая. Руководить этим направлением должны боевые офицеры, допустим, прошедшие программу "Время героев", а не дамы, которые видели войну только через экран телевизора.
- Что касается работы специалиста, то психолог должен не приезжать время от времени "из-за ленточки", а находиться при личном составе постоянно, - отмечает Кужин. - Тогда и доверие к нему среди бойцов увеличивается кратно, а доверие - основное качество в нашем деле. Кроме того, очень часто психологическую помощь надо оказывать здесь и сейчас, а не через день, неделю или месяц, когда приедет в командировку специалист.
Евгений Кужин очень надеется, что практика отчетов, которые "клепаются" в департаменте психологической помощи, канут в Лету в связи с новой инициативой.
- В данный момент я еду на полигон, на один тяжелый случай, - делится военный психолог. - Отказник, острый случай психоза. Боец из молодого пополнения говорит: что хотите делайте со мной, хоть застрелите, я устал. Этот новобранец, прибывший в войска неделю назад, раньше видел войну только в кино и Telegram-каналах, где красивые военные дают интервью, в которых под бравурные марши они рассказывают, как они "крошат укропов". А прибыв сюда и столкнувшись с тяготами и лишениями службы, такими как житье-бытье в блиндаже и изнуряющие тренировки на полигоне, даже еще не побывав в реальном бою на передовой, в его голове произошел разрыв шаблона: ожидание и реальность. Вот вы видели, как я работаю с новобранцами. Встречал я и эту группу, знаю их всех и данного бойца в том числе. И это огромный плюс. Я сейчас приеду, улыбнусь ему, и он мне, как старому знакомому все расскажет. Это и станет началом доверительной беседы, в конце который мы размотаем тот сложный психологический клубок, который находится у него в голове.
На недостаточную профессиональную подготовку командированных в войска психологов и необходимость боевого опыта указал и другой мой собеседник - военный священник Максим Серпицкий.
- Сталкивался я однажды с полковым психологом, который замучил бойцов анкетами, - вспоминает батюшка. - А при обстреле он впал в панику, поэтому я ему запретил даже выходить из машины, чтобы не деморализовал парней. В отдельных случаях психологи нужны, но для начала их надо запустить в боевую работу. Вот когда они себя проявят, тогда бойцы им поверят, и они смогут работать результативно. А пока большинство из них профессионально непригодны. Уж лучше бы наши депутаты военное духовенство развивали. Толку было бы больше.
Военный хирург и начмед 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Сулак так же, как и Евгений Кужин двумя руками за создание федерального пула психологов, считая работу своих коллег крайне необходимой на передовой. Вместе с тем ему, на основании богатого военного опыта, захотелось вставить свои "пять копеек".
- Мне доводилось наблюдать за приезжающими в войска психологами, - вспоминает Сулак. - Как они работают с бойцами, переживающими острый психоэмоциональный психоз. Они дают общие рекомендации. И уезжают, оставив этого бойца на попечение замполита, у которого и без того забот полон рот. А дальше - хоть трава не расти. Допустим, с таким бойцом потом случается беда - кто виноват? Может психолог? Нет - командир. Поэтому психологам надо дать больше прав на принятие решения и, следовательно, они должны нести ответственность за пациента. Вот я как военврач принимаю решение об эвакуации раненого с поля боя, понимая, что ему грозит смертельная опасность. Точно такое же решение в особых острых случаях должен принимать психолог или психотерапевт.
Начмед 810-й уверен в том, что кроме должности замполита в батальонах пора вводить должность заместителя командира по психологической работе. Такой работы - выше крыши. И это решение не то что назрело - перезрело. И это понятно: на войне люди постоянно ходят как по лезвию ножа и нервы их натянуты как струны.
Вместе с тем не все в войсках однозначно поддерживают инициативу Яровой и даже не все считают, что психологи здесь вообще необходимы.
Мой друг, офицер военной разведки армейского спецназа с позывным Шторм говорит, что с трудом представляет, чем ему здесь, на фронте, может помочь психолог или психотерапевт, который прошел какие-то там часы обучения. Точно так же и ветеранам СВО, которые возвратились на гражданку необходима совсем другая помощь. Он уверен в том, что им нужны не психотерапевты и психологи, а социализация в обществе, чтобы они понимали, что вокруг них - свои.
- Именно за этих "своих" они воевали, ежедневно рискуя жизнью, - говорит Шторм. - А для этого не психологов надо обучать, а менять систему ценностей и воспитания внутри страны. Чтобы не получилось так, что вернулся боец на Родину, а вокруг одни гламурные мальчики и меркантильные девочки. Социализация - только она способна помочь бойцам и их семьям. А если по итогу мы останемся одни и будем слышать высказывания типа "Мы вас туда не посылали", то ни один психолог или психотерапевт нам не поможет.
Со Штормом трудно не согласиться. Ну а пока до окончания СВО далеко и пул психологов намерен работать в том числе в войсках на передовой. А вот здесь каждый ведь судит со своей колокольни. Человеку с устойчивой психикой психотерапевт не нужен, так же, как и человеку со здоровыми зубами - стоматолог, шутит Евгений Кужин.
Между тем
Психолого-терапевтическую помощь получили 83 тысячи участников СВО и членов их семей. 34% из них прошли профилактический осмотр, диагностику и профилактику стрессовых расстройств, у 30% обнаружены стрессовые и невротические расстройства, которые лечатся амбулаторно, а у 27% - серьезные психические нарушения, требующие длительного наблюдения.
Как адаптироваться к мирной жизни
Евгений Кужин, психолог 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота:
- В первую очередь вчерашнему бойцу нужно перестать думать о войне и исключить из своей жизни алкоголь, громкие звуки, шум, нервотрепку. Уехать с близкими людьми, желательно с семьей, на природу в деревню. Взять с собой любимые с детства книжки. И наслаждаться тихой безмятежной жизнью на свежем воздухе с физическим трудом какое-то время, пока психика не стабилизируется.
В своей практике я очень часто использую такое понятие, как психологическое программирование. В ходе беседы с бойцами я говорю об их будущем после войны. Куда они приедут, с кем встретятся, кого обнимут, как пройдутся по родному городу, как люди будут ими любоваться. Эти рекомендации создают у них образ будущего, чтобы они мечтали перед сном и представляли, как все это произойдет. Оттиск этого образа в подсознании будет потом через интуицию создавать у человека новую реальность. Я этот психологический прием проверил на себе, хоть и не умышленно.
Когда наша бригада выходила эшелоном с киевского направления, я созвонился со своим раненым товарищем, который мне сообщил: "Операцию сделали, выплатили три миллиона". А мы в то время даже не знали, что за ранение какие-то деньги положены. И тогда я допустил у себя в голове такую мысль: если меня ранят, то я получу три миллиона и потрачу их на ипотеку. В итоге я оказался именно в то время и в том месте, где не должен был находиться, где и попал под обстрел, последствием чего стало тяжелое ранение и девять операций. И потом я действительно потратил эти три миллиона на то, на что хотел. Теперь я всегда рекомендую ребятам следить за своими мечтами, потому что они сбываются. Сразу представляйте себе образ светлого будущего: победу и возвращение домой целыми и невредимыми. И это работает! Печать
В Тамбове презентовали медиацентр единого дня голосования20:11Точенов провел ряд рабочих встреч в Иркутской области в преддверии выборов20:09Сенатор предложил законодательное определение искусственного интеллекта20:04Переход от гуманистической гордости к силовой20:02Глава округа Ступино провел встречу с членами УИКов муниципалитета19:59Андрей Панов заявил о глубоком угольном кризисе в Кузбассе19:52Двух чиновников курганского правительства утвердили в должностях19:48В Курской области начинают работу по поддержке пенсионеров19:44Полмиллиарда рублей получит Ингушетия на строительство технопарка19:30В условиях СВО общественный контроль приобретает особое значение19:10Татьяна Мерзлякова приняла участие в открытии ЦОН В Екатеринбурге18:57Тамбов на пороге перемен: кто станет новым мэром города18:49Экономисты поспорили о прогнозах на снижение ставки ЦБ18:44Не на бумаге и не для «галочки»18:44Ждут ли на фронте Десант психологов?17:58Марат Хуснуллин провёл встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым17:46Глава избиркома Тюменской области: интерес к выборам в регионе есть17:39В Курской области прошли молодежные политические дебаты17:32Оппозиционные политсилы в Томске запустили «умное голосование»17:26В холе досрочного голосования принимаются все необходимые меры безопасности17:18Проект «ЗдравКонтроль» запустил канал в MAX17:11В США убит автор «агитационной мантры» для консерваторов17:01Более 51 тысячи наблюдателей проследят за выборами в ЕДГ-202516:51Альберт Куршутов назначен зампредом правительства Крыма16:39Исчезающих учителей заменит искусственный интеллект?16:23На выборах в Оренбуржье члены УИК посетят 530 отдаленных сел16:12В законотворческом процессе жизнь богаче процедур15:5353 избирательные кампании отложены в Курской области15:37